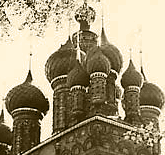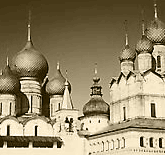Углича
Владимира
Александрова
Мурома
Новости
Живое русское слово
Вологодский ученый-линвист Г.В. Судаков написал именно книгу для чтения по русскому языку – «Живое русское слово»*.
Первостепенный объект его пристального и заботливого внимания – архаичная территориальная лексика северных областей России: «Эта книга и есть воспоминание о народном быте и истории русского бытового словаря, о развитии домашнего уклада и состоянии просвещения на Русском Севере во времена Московской Руси и позднее» (с. 3).
Но, разумеется, автор не мог пройти мимо тех слов, который считаются общенародными, имеют повсеместное хождение. При этом их историко-лингвистические коллизии способны удивить даже знатоков: шапка, рубашка, ремень, завтрак, стакан, пирог, шкатулка и мн.др.
Книга буквально ошеломляет лексическими россыпями во всех сферах духовной и материальной культуры наших предков: церковь и школа, одежда и обувь, еда и питье, работа и досуг, ремесла и торговля… Отсюда и названия очерков – по любому лингвистическому поводу и на любой языковой вкус: «Владимир и Людмила», «Что надевали на работу», «Сито часто, а пироги чинит редко», «Умывальник и рукомойник», «Русская идея как явление русской культуры».
Иными слова, «живое русское слово» – это книга по исторической лексикологии русского языка.
Данная дисциплина сконцентрирована на нескольких – по большей части синкретичных – исследовательских направлениях. Заметное достоинство рецензируемого пособия как раз и заключается в том, что автору удалось собрать их воедино, рассказать о них в научно-популярном форме и показать их положительную бесконечность.
Так, перед специалистами всегда стоит проблема письменных и устных источников, из которых изымается словесный материал. Огромный интерес представляет текстология памятников, их число, достоверность, локализация, редакции, информативность, интерпретация контекстов, латентный этнокультурный пласт и т.д.
Г.В. Судаков привлекает для анализа архивные материалы, причем как те, что уже широко используются, так и вновь открытые, как привычные общерусские, так и оригинальные севернорусские. В пособии щедро цитируются – в упрощенной современной транслитерации – разнообразные памятники древнерусской и старорусской письменности: летописи, сказания, челобитные, «самородные» стихи, «скоромысленники» и проч.
Одним из самых значимых, богатых языковой фактурой жанров автор считает так называемые столбцы или свитки – документы местных учреждений и частные бумаги xvi-xvii вв.: «по внешнему виду – это узкие, от 14 до 17 сантиметров шириной, полосы бумаги… Длина же была различной: столбцы, содержащие запись одного дела, склеивались друг с другом. Такой документ достигал двадцати и более метров. Для удобства хранения столбец свертывали в трубку, свивали» (с. 144). Здесь запечатлены человеческие переживания, нужды, интересы, о которых пишут разговорным, повседневным языком – то есть именно тем языком, за которым страстно «охотятся» специалисты-лексикологи.
Таким образом, источниковедческая и текстологическая база пособия, судя по количеству цитат, весьма солидна, однако в единый перечень она не сведена.
Удивительно, но книга Г.В. Судакова вообще лишена справочного аппарата – и полностью оправдать это ее популярным жанром нельзя. Всюду разбросаны многочисленные ссылки на труды известных филологов, а списка литературы нет. Кроме того, в историко-лингвистических изданиях, как правило, присутствует словарь – пусть даже с самыми элементарными синонимическими толкованиями (с помощью одного слова-синонима).
Исследователи находятся в напряженном поиске свидетельств об организованности и сбалансированности в лексике. Глубинная история языка с большей доказательностью, нежели современность, свидетельствует в пользу системного характера словарного запаса.
В словесных недрах монолитом сплавлено все: внутренняя форма, то есть признак, положенный в основу именования, сетка значений, их градация, парадигматика (отношения, построенные на противопоставлении, которое основано, тем не менее, на каком-то общем признаке: синонимия, антонимия), типовая и текстовая синтагматика (сочетаемость), деривационные связи (однокоренные слова, а также слова с аналогичным составом), ассоциативный фон.
Конечно, наиболее слиянным, но в то же время подвижным оказывается набор лексико-семантических вариантов многозначных слов.
Так, существительное сарафан впервые появилось в письменности в xvi веке и имело два значения «мужская легкая одежда», «тип походного или рабочего кафтана». Потом выкристаллизовался еще один лексико-семантический вариант – «меховой кафтан, предназначенный для царей и архиереев». То есть в старину сарафаны носили… мужчины. И только с начала xvii столетия сарафаны стали одеждой для женщин.
Для современного человека существительное подзатыльник ассоциируется с неприятными и даже оскорбительными ощущениями. Исстари же это слово было вполне безобидным и даже красивым: оно называло широкие сборки, покрывающие затылок у женских головных уборов. Действительно, разница серьезная: надеть под затылок и ударить под затылок!
Во времени существенно «продвинулись» и наушники. Это слово – близкий «родственник» милой ушанки. Ведь наушниками именовали меховой подшлемник.
Синонимия – одна из самых стройных и очевидных парадигматических групп не только на нынешнем этапе, но и в истории.
Исконно существительное карман входило в длинный синонимический ряд: карман – чпаг – зепь – через. Помимо того, что эти слова обозначали одну реалию, они постепенно закреплялись за определенными разновидностями языка. Следовательно, были не только лексическими, но и стилистическими синонимами. Чпаг употреблялся в церковно-книжных текстах; зепь и через – маркеры диалектно-просторечной речи. И лишь карман взял на себя роль межстилевого слова (способного употребляться всюду) и избавился от своих «собратьев».
К системообразующим компонентам в лексике причисляются и гипонимо-гиперонимические отношения (отношения родового и видовых именований): в московской Руси для прибора из ложки и ножа было придумано слово с выпуклой внутренней формой – связни.
Лексическая система – это еще и сумма лексико-семантических и лексико-тематических групп, куда входят слова, которые объединены одной темой. Исторически многие из них были гораздо слаженнее и богаче, чем сейчас. В ячейках подобных групп вольготно чувствовали себя слова, в основу которых положены самые разные первичные признаки. Может быть, поэтому старый язык такой осязаемый, искристый, переливающийся.
Например, наши современники знают рукавицы, перчатки, варежки – вот, пожалуй, и все. А ведь раньше согревались и работали в везяниках, голицах, вачегах, верхоньках, деяницах, шубницах, камошницах, плетеницах, перстятицах, водяницах. Более 50 названий, производных от 20 корней!
Комплексно историки языка изучают лексикологию и словообразование: словообразовательные и деривационные значения, связи, отношения, ассортимент морфем, их динамика и мн.др.
Бездонна тема однокорневых дериватов с разными суффиксами и префиксами. Далеко не всегда удается достоверно понять, называют ли они по-разному одну реалию или несколько, в каком порядке они появляются на свет?
К примеру, сосуд для хранения молока может именоваться криницей, кринкой, криночкой, кринцей, а пироги с икрой – икряниками, икорниками.
Центральный вопрос исторической лексикологии и словообразования – соотношение между синхронным (современным) и диахронным (исконным) членением и производностью многих русских слов.
В описательной лингвистике членимой принято называть ту основу, которая дальше делится на морфемы, в отличие от нечленимой. Производная основа, в отличие от непроизводной, – такая основа, значение и звучание которой обусловлено родственными словами. Но эти, казалось бы, простейшие определения разбиваются о конкретные слова.
Так, любой носитель русского языка интуитивно чувствует однородность слов лапка, ручка и миска, тарелка. Тем не менее сейчас их морфемная структура различна. В первом случае выделяется уменьшительный суффикс -к(а), поскольку, с одной стороны, есть лапа, рука, а с другой – лапочка, рученька. И это соответствует основному принципу морфемного членения, который зиждется на сравнении однокоренных и одноструктурных слов. В существительных же миска, тарелка основы нечленимые, поскольку нет исходных бессуффиксальных основ. Но ведь и здесь суффикс ощущается, чувствуется, что слова – производные. Более того, словообразовательная система подсказывает дериваты мисочка, тарелочка. А если мы обратимся к старейшим текстам, то найдем там и «прародителей» – мису и тарель. Первая, известная с xii века, более походила на поднос, куда ставилось сразу несколько блюд. Была и миса поменьше – полумисье. А миска фиксируется только с xvii столетия. Тогда же появилось и слово тарелка – новообразование от тарель. Последнее заимствовано из немецкого языка в начале xvi века.
Таким образом, некоторые дериваты со временем утрачивают связь с производящей основой и переживают значительные изменения в своей структуре.
В результате семантика производного слова становится фразеологичной – не выводимой из суммы словообразовательных значений его морфем: тряпка – это ведь уже не маленькая тряпа.
Однако подобная немотивированность имеет условный синхронический характер и развенчивается при обращении к истории.
Диахроническое словообразование и дериватология имеют дело с так называемыми уникальными морфемами, которые выделяются крайне редко, в нескольких словах.
Например, суффикс -от(о) со значением инструмента, приспособления. Его с исторической точки зрения можно вычленить в словах долото, решето, грохото: первое существительное связано со словом долбить, второе – восходит к реха «дырка, отверстие», грохото, среди прочего, обозначало решето большого размера с высокими стенками для просеивания гороха.
Иногда семантические сдвиги и морфемная нечленимость сопровождаются нетривиальными фонетическими и графическими процессами – главным образом, гиперкоррекционными, когда определенные изменения происходят не только там, где они прогнозируемы, но и там, где по каким-то причинам «включается» необычная аналогия.
Так, в старорусских текстах фиксируются слова коровай и колач. Эти написания отражают их этимоны. Коровай, предположительно, был культовым выпечным изделием, а значит, соотносился с коровой, а колач этимологически породнен с колесом. Впоследствии эти слова стали произноситься по акающей норме, что и было закреплено в орфографии.
Существительное юпа, которое первоначально широко бытовало только на Русском севере – благодаря активной торговле с иноземцами, имело значение «исподний кафтан», а также вполне системный словообразовательный вариант юпка, делившийся на морфемы. однако к началу xviii столетия победил современный лексико-семантический вариант – «женская набедренная одежда», а бессуффиксная форма исчезла, вследствие чего основа перестала члениться. Кроме того, по аналогии с парами типа рыба – рыбка слово получило графический вид юбка, то есть с буквой б.
Автор книги на самых простых примерах показывает, что язык организует собственный хронотоп (время и пространство) – не абсолютный, где называется точное место, а также дата, а относительный, где тон задают поступательные лингвистические процессы, которые относятся друг к другу и соотносятся между собой. именно они становятся для слов безошибочными ориентирами.
Например, лексико-семантическая группа «короткая одежда» в исконном своем ядре по причине сурового климата была малочисленной: душегрея, душегрейка, телогрея, телогрейка, нагрудник, безрукавка. Однако с середины xvii века на Русь пришла западная мода. И наши предки стали носить курты, куртки, куртишки (заимствование из латыни через польское посредство), а затем и бостроки (бостроги), которые переняли у немцев. Изучив памятники письменности, г.в. судаков свидетельствует: «Процесс отбора наиболее подходящего наименования для короткой верхней одежды, начавшийся в старорусский период, завершается «победой» слов безрукавка для одежды без рукавов и куртка – для одежды с рукавами» (с. 27).
Указанные примеры иллюстрируют, как язык осуществляет объективную селекцию, как он отправляет слова в пассивный запас и перераспределяет их из литературной разновидности в диалектную.
Кроме того, они демонстрируют, как на почве исторической лексикологии сихронизируются разновекторные процессы, происходящие с исконными и заимствованными словами (см. также лексико-семантические группы «Супы», «Сумки», «Длиннополая одежда»).
Каждый историк языка несказанно гордится тем, что он в пыльных и потускневших памятниках нашел и изучил слова и выражения, которые навсегда ушли из языка, оставшись, однако, знаками самобытной культуры. Есть такие «раритеты» и в книге г.в. судакова: крестоватик (крестовик) «одежда, подбитая мехом песца-крестовика», ошетни «сапоги из свиной кожи с неопаленной щетиной», рубуша «коробка, свернутая из куска бересты и прошитая тонкими прутиками», пуз «мера для хлеба и соли», каша соковая «каша с пареными овощами».
Таким образом, книга «живое русское слово» заставляет задуматься над дискуссионными вопросами современной лингвистики. каково соотношение диалектных – территориальных, и устаревших – вышедших из употребления, слов? Как выстроить классификацию диалектизмов? Как разграничить собственно лексические диалектизмы, т.е. слова, отличающиеся от литературных своей звуковой оболочкой при равных значениях, и этнографизмы как единицы, номинирующие какие-то специфические социально-культурные реалии? Какой дефиниции последних – узколокальной или, напротив, общенациональной – следует отдать предпочтение: можно ли, к примеру, относить лапти, валенки, сарафан как приметы исключительно русской культуры отнести к этнографизмам или это что-то еще более экзотичное – вроде яров «сапог, сшитых вместе со штанами», которые носили только на Русском Севере? Что понимать под языковыми вариантами (разновидностями одного слова)? Как ранжировать лексические варианты и синонимы? Ставя подобные проблемы, г.в. судаков открывает новые перспективы для их решения.
Всем обязательно надо прочитать рассказы, повествующие о развитии на Руси литературы, просвещения, грамотности: «Как учились грамоте», «Что читали в старину», «У начала северной литературы». По подсчетам г.в. судакова, «среди мужского населения таких торгово-промышленных городов, как Вологда, грамотность равнялась 13-15 процентам от числа жителей» (с. 129). Несмотря на то, что книги были дорогими (стопка бумаги стоила столько же, сколько туша говядины), их покупали и отдавали переписчикам. Самыми ходовыми считались Псалтырь, часослов, апостол, триодь, Библия, шестоднев, азбука, Грамматика Мелетия Смотрицкого. Люди тянулись к слову, ценили образность. И поэтому русская литература возникает очень рано и развивается очень бурно.
Закрывает книгу очерк «как назвать тебя, хх век?» (с. 150-153). В нем автор декларирует: «и, стало быть, имя тебе, двадцатое столетие, – потерянный век!» (выделено автором. – л.м., с. 152). Кому-то этот вывод может показаться слишком категоричным и беспощадным, но по сути он верен. Рисуя культурно-языковой пейзаж прошлых столетий, г.в. судаков призывает «перенять все лучшее из уклада жизни наших предков» (с. 4). исподволь он задает тревожный вопрос: каким же будет слово xxi века – искалеченным, простецким, чахлым? А может быть, все же сочным, богатым и живым…* судаков г.в. живое русское слово. Книга для внеклассного чтения по русскому языку. Вологда, 2002. 156 с.
Ярославля
Переславля
Борисоглебского
Ростова Альманах