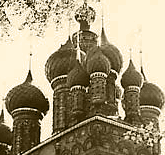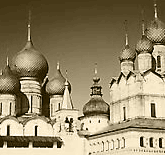Углича
Владимира
Александрова
Мурома
Новости
Критика софиологической концепции образа в работе о. Сергия Булгакова "Икона и иконопочитание"
Заявивший о себе в конце XIX века пафос некоторых наших соотечественников в стремлении "ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления", тем самым, говоря словами Вл. Соловьева, "организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии"[1], окрасил собой и подход к исследованию онтологических предпосылок феномена иконы, вошедшей в это же время в качестве особого предмета размышлений в религиозно-философскую мысль. "Умозрение в красках" незаметно стало служить целям русского всеединства, на почве которого, в достаточной мере вспаханного "Чтениями о Богочеловечестве" (1877-1881) Вл. Соловьева, произросло пышное теоретическое древо "Премудрости".
Иконоборческий спор и догмат об иконопочитании в этой связи, как правило, приобретали характерное для данной системы мысли истолкование, свидетельствующее о генеральной тенденции – представлять отношение образа и первообраза, мира и Бога в рамках отношения между сущностью и явлением. Во избежание повторения гегелевского тезиса о развивающемся абсолюте идеологами всеединства было введено второе абсолютное, являющееся субъектом исторического процесса, который в единодушном согласии отождествлялся с Софией. Тем не менее, это второе абсолютное все-таки было существенно связано с первым, являясь его предвечным образом – Богочеловечеством. Все эти положения создавали весьма своеобразное для общей линии богословия иконопочитателей предпосылки для толкования связи между видимым и невидимым, трансцендентным и имманентным, что непременно отразилось на софиологическом понимании сущности иконоборческого спора.
Говоря кратко, смысл стоящий за проблемой иконоборчества, создававший столь длительную и мучительную ситуацию в византийской истории Церкви, оказался непонятым. Например, по словам Вл. Соловьева, иконоборчество — последняя в ряду ересей, отрицающих возможность проникновения плоти или материи вообще божественным началом, наперекор Откровению, по его словам, учащему, что и материя, и дух предназначены к извечному просветленному существованию внутри Божества как Всеединого. К слову сказать, христианское Откровение никогда и не предполагало такого в себе содержания. Тем не менее, этот тезис находится в абсолютном согласии с софиологическим принципом Богочеловечества.
Булгаков же пошел еще дальше в положенном Соловьевым начинании, попросту констатировав, что богословской победы иконопочитателям так и не удалось одержать. По его словам, "до сих пор догмат иконопочитания рассматривался всецело на почве христологии как один из ее выводов. Однако в пределах христологии, как мы видели, он оказался, в сущности, неразрешим, ибо ведет к безысходным апориям. Он должен быть перенесен на почву общей теологии и антропологии в их взаимном соотношении, причем связь эту дает софиология (которая включает в себя в известной мере и христологию). Надлежит поэтому, прежде всего, показать, что по существу своему догмат иконопочитания есть проблема софиологическая"[2].
В этом же направлении движется мысль и А.Ф. Лосева, когда он пишет: "Последовательно проводимое иконоборчество, несомненно, есть кантианство, которое полагает, что между "вещами в себе" и явлениями лежит непроходимая пропасть, тогда как последовательное проводимое почитание образа - это платонизм, который признает, что всякое явление есть откровение сущности и что сущность, хотя и непостижимая сама по себе, все же может быть дана в определенных символах как идеальных формах и умопостигаемых образах"[3].
Таким образом, выступает следующая логика: либо образ как явление раскрывает сущность, либо если такого не происходит, выносится вердикт об иконоборчестве инакомыслящих. Удивительно то, что в этот разряд попадают св. отцы, ибо именно они отвергли положение, согласно которому образ изображает сущность.
О том, насколько подобная тенденция губительна для богословия образа мы и постараемся проговорить ниже, учитывая всю умозрительную тяжесть поставленной перед нами задачи: уж слишком крепко привился и полюбился русскому сознанию этот центральный софиологический мотив.
Вопрос о Софии до сих пор обнаруживает столь живую и неистребимую актуальность в определенных и далеко не узких кругах просвещенной интеллигенции, охраняющей ее поэтический лик как самобытный признак русского "самосознания". И все же имеет смысл вспомнить, что софиологический мотив самым тесным образом связанный с учением о всеединстве, явил собой не только и не столько своеобразие русской религиозно-философской мысли в общем деле построения метафизики, и уж тем более не ее отличительный признак национальной духовности, но скорее печальную зависимость от взросшей в лоне немецкой теологической традиции парадигмы мышления. При этом мы далеки от мысли думать, что влияние Запада ничего кроме как софиологического вируса неспособно принести на русскую почву. Все дело в том, кто выбирает и что выбирает. Что касается Древней Руси, то там вопрос о Софии не возникал, скорее всего, по той простой причине, что не возникала необходимость расхождения с византийской традицией. Впоследствии все изменится, теософская составляющая, занесенная с сумрачной тевтонской земли, окрасит лик Божьей Премудрости в тона невиданные и несвойственные ее библейским истокам. И на рубеже исхода 19 века, никому и в голову из корифеев Серебряного века не пришло вспомнить самим и напомнить другим о Софии-Премудрости "как выражении истины о личном обитании Бога, несмотря на Свою трансцендентность, среди своего творения, что и получило свое предельное выражение в тайне восприятия Богом творения в личности Богочеловека"[4].
Известный наш современник, видный ученый, филолог и библеист с нешуточными богословскими познаниями С.С. Аверинцев в своей недавней статье "Концепция Софии и смысл иконы" еще раз подтвердил роковую неизбывность софиологической темы в русском сознании, положительно подтвердив взаимосвязанность двух вопросов: что такое София и что такое икона.
"Что именно является предметом изображения в художественном и духовном контекстах иконописи?", — спрашивает он. И тут же дает неожиданный и весьма оригинальный ответ: "Реальность, которую можно назвать софийной в наиболее точном смысле, т.е. ни чисто Божественная, ни чисто человеческая, ни Трансцендентность, ни имманентность сами по себе, но если воспользоваться высказыванием великого английского поэта Уильяма Блейка, "божественный человеческий образ": человеческое тело, преображенное, прославленное и обоженное "действием Благодати в Христовых святых", по определению 7-го Вселенского Собора"[5]. Тот факт, что учение о Софии сводит православное учение об иконе к сущности софиологии — русской "метафизики", учащей об отображении Трансцендентного в имманентном и, наоборот, о человеческом образе в Божественном бытии, заставляет особо задуматься о характере взаимодействия этих двух учений. И вновь поставить вопрос: что же такое София? И что же такое икона?
Надо сказать, что не очень чуткое поначалу отношение Запада к теоретическим вопросам иконы и сущности иконоборчества, оставшееся в стороне от смыслов святоотеческого богословия образа, оказалось чрезвычайно чувствительным к образу Софию. К ее мистической сущности стянулись все визионерские рефлексии, все жадно стремившиеся утолить почти нутряное желание и на грани бессознательного прильнуть к полноте образа Божьего, прильнуть по-женски, воплощая эту пассивную женственность в образ извечного зеркала, в которое глядится Бог и видит там свое творение. Этот всеобщий образ, в котором сходится все и вся, объединившее в себе тварь и Творца, служит неиссякаемым источником вдохновения софийного. На фоне многочисленных воплощений Софии в Марии, Логоса в Марии, Софии во Христа в подобного рода сознании христологический догмат, конечно же, теряет свое центрирующее историю значение и богочеловеческая мистерия с бесконечностью отражений друг в друге софийных начертаний втягивает историю и человека в калейдоскопический поток.
Всем правит Душа мира, животворящая и обновляющая всякое существо, мир оживляется духами от мала до велика, и Образ Христа претворяется в голоса этих малых и великих духов природы. При всем том онтологическое место Софии так до конца остается невыясненным. Если она душа Марии, воплотившаяся в Деву, то дабы не лишать Деву ипостаси надо думать, что и вечная, предсущая душа-София также ипостась. Но где же она пребывает в качестве таковой? Никто из софиологов вроде бы не отважился на окончательное приписание ей Четвертой ипостаси, но от этого ее место не становится определеннее. А если София - Душа мира, то выходит, Дева Мария не дотянула для того, чтобы быть ипостасью, но так и осталась порождающим лоном, терпеливо взращивающим как и положено Матери-земле любое семя падающее в нее. Каким-то онтологическим беспокойством неуемного воображения отдает от софианской западной феерии с ее мистическими откровениями.
Это беспокойство, безблагодатно теребящее попусту душу, отвлекающую и не насыщающую в одно время. Странно было бы творить молитву перед образом Софии. Да и возможно ли вопрошать и обращаться к тому, личность которого, грубо говоря, не установлена. И все-таки тема Софии бесконечно питает систему всеединства, что мы и наблюдаем, начиная от гностических проекций и продолжая системами Шеллинга, Соловьева, определяя в итоге собой религиозно-философское творчество Булгакова. Потому мы можем смело сказать, что собственное учение о софиологических основах образа мы находим в работе о. Сергия, названной им как догматический очерк "Икона и иконопочитание".
Очерк был опубликован в 1930 году и представляет из себя одну из первых попыток в среде русской религиозно-философской мысли дать систематическое изложение богословских основ иконы. В 1929 году, т. е. за год до выхода его книги об иконе, о. Сергий пишет в письме к своей ученице сестре Иоанне (Рейтлингер), в частности следующие строки: "Если Бог даст жизни и сил, одна из задач моего богословствования — разъяснить смысл иконопочитания, он — софиологический. Образ только потому возможен, прежде всего, что человеческий образ есть и Образ Божий, Первообраз, ибо человек и сотворен по образу и подобию. Поэтому и Христос воплотился, воспринял человеческое естество, не как чуждую для Себя и низшую одежду, но как Свое собственное лицо, только абсолютное, ибо нетварное. В Его лике — единство вечного и тварного человечества, софийность. Обыкновенно же говорят, что изобразим, потому что воплотился, а надо наоборот: воплотился, потому что изобразим — единый Образ…"[6].
Уже в этом небольшом абзаце видно, что богословие иконы, согласно глубокому убеждению о. Сергия, теснейшим образом связано с софиологией, фундаментальной идеей которой является, ни больше, ни меньше, как ее центральное положение об изобразимости Бога в самом Себе, которое и позволяет о. Сергию выстроить апологию иконы — икона возможна не потому, что Бог воплотился, но скорее Бог воплотился потому, что возможна икона, ибо Бог в Самом Себе изобразим.
О. Сергий с головокружительным темпераментом, не признавая и не вникая в какие-либо критические замечания со стороны инакомыслящих православных богословов, возводил умозрительный проект христианской метафизики, основанной на естественном Богочеловеческом единстве. Глазами такого утопического умозрения, видящего Бога как Он есть, стала для него София.
На ясном осознании непререкаемой границы между двумя сферами бытия, в целом затрагивающим собой и вопрос об онтологическом отличии человека и Бога, основана православная христианская традиция Боговидения с ее пониманием духовности знания. Один Сын, единосущный образ Отца, обладает совершенным знанием Божественной сущности, каким не может обладать ум сотворенный. "Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть" (Мф.11, 27). Таким образом, видение Бога раз и навсегда определено внутренними отношениями Отца и Сына, при том, что познание Бога Отца может быть сообщено уму только по воле Сына Духом Святым.
В софиологическом измерении понятие о единосущном образе трансформируется внесением в недра Божественной Троицы образа Ее сущности, одновременно являющегося первообразом мира. Этот мотив зеркала как первообраза мира образа Первообраза довольно устойчив и повторяется у всех идеологов всеединства и составляет своего рода опорный столб софиологической картины бытия.
Если мы действительно хотим выстроить богословское учение об иконе, то должны начать с того, чтобы признать, что реальность, открываемая христианским образом, в принципе, не умозрительна. Точнее сказать она не имманентна сознанию, как если бы была его собственным порождением, но скорее представляет собой некоторую перспективу для естественного ума, заключающуюся в благодатной возможности видеть по природе невидимое, как то, что не принадлежит его собственной природе. Образ в контексте библейского онтологизма соотносится с таким феноменом, который до определенного исторического времени не мог быть в ряду всех видимых и невидимых явлений. Никакие умозрительные усилия и аскеза философствующей мистики античного мира не в состоянии были приблизить ум или хотя бы дать представление о том, что суждено было открыть только Богу. По этой причине трудно, да и невозможно, выстроить ни теории образа, ни метафизики образа, основываясь на интеллектуальном созерцании, на диалектической природе мысли. Требуется пересмотр традиционного гносеологического аппарата, в особенности его проблематического аспекта, связанного с разрешением взаимоотношения явления и сущности.
Софиологический взгляд на икону, по нашему мнению, был вызван полным метафизическим замешательством в вопросе о сущности знания, неправомерным отождествлением философского логоса с богословским и, в конечном итоге, буквальным олицетворением богочеловеческой мудрости Софией. В результате, отринув святоотеческую традицию Боговидения, о. Сергий вольно или невольно утверждал естественное Боговидение, онтологическую описуемость Бога Отца.
Но не будем торопиться и начнем, как должно, по порядку — с понятия христологического образа, поскольку именно с него необходимо начинать, если мы хотим понять догматическую основу иконы. Помимо многочисленных апелляций к языческому античному идолу, в котором нашла свое воплощение интуиция совершенной богочеловечности, в интерпретации Булгаковым христологического образа мы видим развернутую диалектическую аргументацию, направленную на обоснование естественного Боговидения, что особенно проявляется в вопросе сочетания двух природ во Христе. Общеизвестно, что богословская основа Халкидонского догмата[7], требующая для своего усвоения метафизики, которой античный мир по понятным причинам не мог предоставить без решительного пересмотра основ своего гносеологического аппарата, оказалась наиболее трудной для безоговорочного ее принятия. Особенно трудно было здесь освоение учения о единстве двух совершенных природах в личности Господа Иисуса Христа. По этой причине, как верно отмечает о. Василий Зеньковский "учения Аполлинария[8], Нестория[9] и монофизитов[10] продолжали и продолжают и сейчас, явно или тайно, жить в сознании церковных людей, твердо стоящих на линии церковной традиции"[11].
К сожалению, несмотря на длительное преподавание догматики в Св.Сергиевском Богословском Институте в Париже, учение Булгакова отмечено не совсем ясным толкованием единения Божественной и человеческой природ во Христе, что очевидным образом сказалось в его софилогических построениях. О. В. Зеньковский справедливо отмечал, что "сущность Халкидонского догмата вовсе не состоит (как это нередко утверждают, вульгаризируя содержание догмата) в общем учении о возможности нераздельного, но и неслиянного сочетания двух природ, а состоит она в сочетании их в едином Лице Сына Божия"[12].
Там, где это сочетание, высвобождаясь из личного единственного сочетания в Иисусе Христе, объявляется основанием или общим принципом человекобытия, которое одновременно есть и Богобытие, другими словами обобщается до уровня некоей субстанциальной общей природы, мы получаем софиологическое обоснование христианского образа. Вместо иконы Лика Христа, доступного по своей человеческой природе телесному созерцанию, нас принуждают видеть в Нем недоступное и невидимое в силу своей "богочеловеческой" природы "лицо" Софии. Недоступное не потому, что "Бога не видел никто никогда", но потому что под ее "лицом" сокрыта реальность, которую невозможно соотнести ни с человеческим бытием, ни с Божественным. Ее образ растворяется в небытии при всякой попытке логически помыслить ее сущность, не говоря о том, чтобы признать достоверным образом своего явления. Как остроумно заметил архиеп. Серафим (Соболев), очевидно имея в виду дефицит христологического реализма в построениях Булгакова: "…мы должны сказать, что Софию не только нельзя назвать образом Божиим, нельзя даже назвать ее образом какого бы то ни было разумного существа и какого бы то ни было предмета, так как София, о которой учат о. С. Булгаков и Флоренский, абсолютно никого и ничего не может собою отображать по той причине, что ея никогда не было в действительности"[13].
Тенденция рассматривать критику софиологии архиеп. Соболева чересчур прямолинейной, не учитывающей якобы всю контекстуальную сложность речи Булгакова широко известна. Но иногда без этой прямолинейности не обойтись, особенно если касаться вопроса о никогда не ставившейся под сомнение связи иконы с Боговоплощением. Икона действительно является самым непосредственным и драгоценным свидетельством Боговоплощения в сознании св. отцов. Никакие гносеологические зигзаги здесь не то, чтобы не уместны, они исключены логикой святоотеческого Предания. Закривить или усложнить несомненное – все равно, что оказаться за воротами Церкви.
Но вернемся, на мой взгляд, к удивительно точным, высказанным с непосредственностью веры ребенка в очевидное, словам архиеп. Серафима. Ведь действительно, кто согласится с утверждением, что Софию кто-либо видел или кто-либо слышал? Ситуация с ней очень напоминает мифологическую. Пожалуй, только мифологическое сознание "рисует" свои образы без всякой надобности задуматься, а было ли что из его грез в действительности. Задумываться о причине ему не пристало, ибо главное поведано душой всего видимого, слитным со своим образом Богом. В душе творимого мифа все, что видится, то, безусловно, есть и было и будет, все взаимообратимо до той степени, пока все вопросы, способные прояснить сущность называемого, будут сняты и успокоены. Перед мифом не стоит задача прояснить и понять, но скорее уподобить и приручить реальность — изобразить так, чтобы вопрос, был ли изображаемый в действительности, никогда не возник. Равно как и не возник бы и другой, — о подлинной причине всего сущего. И все же мифа нет без чувственно-конкретных образов в умножении вещи, лишающих ее своей индивидуальности. Похоже, и булгаковская София тяготеет к тому, чтобы стать всем, не будучи никем в особенности. Но не покидает сознание простой до банальности вопрос, похоже, так и не возникший в уме о. Сергия: если этой загадочной сущности Софии во всем своем неповторимом, очевидном и безусловном бытии никогда не было в действительности, то кого изображать?
В конце концов, проблема чьей изобразимости, кроме как образа исторического Христа, создала столь длительную и мучительную для обеих партий иконоборческую контроверзу?
Спрашивается, при чем тут неведомая фигура Софии, невидимая ни только эмпирическим взглядом, но не посетившая даже апологетов или противников образа Христа? И почему взращенное собственным "гением" представление о. Сергия о прекрасном, гармоничном, совершенном, идеальном должно собой заменить образ Того, Кто был и есть в своей исторической и эсхатологической очевидности?
Удивительно, что логика Булгакова в ходе метафизического оправдания иконы формируется в согласии с абсолютно чуждыми богословскому контексту указанной проблемы смыслами, стремительно влекущими мысль к своему онтологическому устью — к предвечному образу Софии, отражающему и образ мира, и Отца Небесного, но в своей целокупности не принадлежащему никакой конкретной индивидуальности. Благодаря предвечному сочетанию в ней Божественного и человеческого, лицо Христа созерцается не столько в своем человечестве, сколько видится в своем Божестве.
Мы опустим сквозную "софийную" интуицию обоюдной любви Бога и человека, обычно хватающей за душу литературоведов, неизбежно вырастающую из богочеловеческого принципа, "смысл которого — в сущностном небезразличии Бога к человеку ввиду их "сообразности"[14]. И не поленимся еще раз поставить вопрос, можно ли все-таки быть уверенным, что речь здесь идет о единстве Личности — о Лице, помня о его метафизическом содержании в софиологической редакции?
С точки зрения о. Сергия, обстоятельно изложенной на страницах обсуждаемого нами очерка об иконе, в особенности в тех его местах, где затрагивается тема ипостасного союза природ во Христе, достаточно ясно представлена мысль, что лицо есть не что иное, как видимый образ абсолютно тождественной с ним его сущности, которая в полноте своей созерцается в уме. Чувственный образ, как образ, принадлежащий единичной вещи, в этой связи, естественно, не имеет иного значения. Перспектива личности тонет и в итоге исчезает в череде образов, которые как будто бы должны привести к своему абстрактному первообразу — образу Софии. Не случайно, что иконный образ в глазах о. Сергия должен быть соотнесен не с видимым телесным обликом Христа, неотъемлемым от Его Личности, но ни с чем иным, как с его Божественным существом. Задача, прямо скажем, не из легких. Ведь София как прообраз иконы есть все что угодно, но только не что-то доступное для изображения, потому как она абсолютна неопределенна.
Если халкидонское богословие соединяет во Христе Его неописуемый единосущный образ Отца и описуемый образ по человечеству, то только потому, что оба они относятся к Его единой Личности, а не потому, что они тождественны. По этой причине св. отцы никогда не обращались при защите святых изображений к понятию единосущного образа, потому как понимали, что на этом пути не подойти и близко не только к живописному образу, но и к видимому образу живого Христа.
Быть образом первообраза ? это эллинистическая реминисценция монистической онтологии, где явление понимается как образ идеи-умопостигаемого образа, который в свою очередь рассматривается как сущность вещи. В подобной логической ситуации естественно обесценивается феноменальный план, и аспект изображения полагается в прямой связи с умопостигаемым эйдосом-образом, являя изображение в качестве слабой копии умозрительного образца. Поэтому понятие личности в богословском обосновании иконы так важно для св. отцов, понятие которое разорвало бы жесткую причинную связь между идеей-умозрительным образом и его явлением — чувственно-конкретным образом, тем самым, выявляя онтологическую в патристическом понимании связь между образом и лицом. Никакой похожей перспективы в учении о. Сергия мы не найдем, несмотря на всю его видимую, на первый взгляд, глубину погружения в сущность иконоборческой контроверзы.
У иконоборчески настроенных христианских мыслителей мы видим одним из главных пунктов в обвинении богословской мысли иконопочитателей недопустимую, как им казалось, претензию "описать" неописуемое и непостигаемое, и тем самым разрушить сверхразумное единство Личности вочеловечившегося Логоса по Халкидонскому догмату. По их глубокому убеждению, рукотворный образ Христа в итоге своем не способен удержать адекватно подобие трансцендентному Первообразу, пребывающему одесную Отца. Совершенно безупречно была выстроена их гносеология: у неописуемого первообраза не может быть описуемого образа. Но при одном, и в данном случае, определившем исход полемики, условии — эта логика остается в силе, пока мы не говорим о Личности. Видимая Личность Христа, будучи совершенным образом Бога невидимого, и есть единственный предмет Халкидонского догмата.
Булгаков же решается, в общем-то, на довольно странный во всех смыслах шаг, решительно заявляя о тождестве описуемого человеческого образа и предвечного Божественного. Тем самым, в очередной раз, опровергнув свое периодически декларируемое согласие с идеей творения, он доказал на деле, что факт творения есть всего лишь слово, сохраняющее только номинальное значение, не имеющее, по существу, отношения к реальности, которая для о. Сергия заключается в абсолютном и несомненном единосущии Бога и мира. Понятие творения раз и навсегда вытолкнуто из его системы. Но в отличие от логики неоплатонизма, для которой Боговоплощение есть бессмыслица и невозможная ситуация, для Булгакова единосущность Бога и мира в духе последователей всеединства — единый Богочеловеческий образ — служит единственным и верным условием для Боговоплощения. О столь причудливом характере Боговоплощения в представлении Булгакова независимо от судеб мира и путей его тварной свободы писал в Указе Московской Патриархии тогда заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский): "Возможность и даже необходимость вочеловечения Бога заложена в природе вещей, поскольку существует сообразность между Божеством и человечеством"[15].
Таким образом, Боговоплощение подтверждает предвечный богочеловеческий союз — образ Софии, по мнению Булгакова, а не как в святоотеческом богословии, где икона является свидетельством ипостасного явления Бога в человеческой плоти. В случае о. Сергия описуемый образ обязан быть подобием предвечного богочеловеческого образа. Только так и не иначе: "Поэтому и возможна икона Христа, именно по Его видимому человеческому образу, который, однако, тождественен с Его же образом невидимым, Божественным"[16].
Вся двусмысленность данного утверждения станет нам ясной, как только мы поймем, что этим тождеством устраняется понятие о личности, т.е. той реальности, вне которой надежду на построение метафизики христианского образа лучше всего забыть, как несбыточную грезу. В противном случае, обслуживая логику тождества двух образов или, что одно и то же, двух природ, Халкидонский догмат заговорит о существенно ином, чем то, что есть в сознании Церкви.
В халкидонском богословии все не так, как то виделось Булгакову. Догматом устанавливается изначальная несоизмеримость двух природ, их непостижимое сочетание, но не тождество. Два несводимых друг к другу образа: единосущный — неописуемый, невместимый в человеческое сознание, Божественный и человеческий — описуемый, соединяются не в сложную природу, ибо это невозможно без утраты свойств обеих природ, но в единство, благодаря которому природы обретают свое неповторимое сочетание — единство Ипостаси.
Можно, конечно, поддаться искушению обновить догматический, на первый миг, не учитывающий беспокойную природу разума, взгляд критическим рассмотрением сверхразумных богословских положений, как то широко практикуется в протестантской науке. В какой-то мере уверенность ее мыслителей в том, что богословское знание должно отвечать духу современной эпохи с ее своеобразием интеллектуальных запросов, вполне оправдана, и потому вопрос о двух природах во Христе, как наитруднейший из трудных, вроде бы подлежит в первую очередь рациональному усвоению и разъяснению. И возникает законное желание, в том числе и у Булгакова, завороженного мужеством рациональной протестантской теологии, наводить мосты между Откровением и интеллектом, в который раз объяснять необъяснимое, множить интерпретации в угоду герменевтическому принципу научности и объективности. Но наш путь придерживается других ориентиров и вступать на поле, вспаханное и высеянное несколько иной культурой и теологической традицией с ее безусловно важными и имеющими место быть проблемами, было бы для нас малопродуктивным и на данный момент вовсе необязательным занятием. Наша цель задана святоотеческой богословской мыслью, в свете которой халкидонское определение о двух природах во Христе не провоцирует на постановку, в общем-то, излишних вопросов о причине неумопостигаемости парадоксального соединения этих двух природ.
Мы продолжаем утверждать, что сохранение в Лице Христа двух образов — неописуемого и описуемого — подразумевалось всегда святоотеческой апологией иконы, но не всегда выражалось с такой буквальной ясностью, как, например, у патр. Никифора: "Следуя Павлу и исповедуя во Христе два образа, являющие нам два естества, мы признаем страстного подобно нам человека, имеющего внешний вид, описуемым"[17].
Тот факт, что двойство образов не отражается на единстве личности Христа, как не отражается и двойство Его природ, лишь с особой силой подчеркивает исключительность неподвластной суду разума тайны реальности Лица. В Лице — исток единства природ, но никак не наоборот. Сказанное нами вынуждает еще раз повторить, что если бы в истории святоотеческого богословия существовало сознание хотя бы некоторой соразмерности Бога и человека, как утверждает Булгаков, то и проблемы с Его изобразимостью не возникло. Возможность и желание изобразить Христа были бы так же естественны, как изображение царя, почитание которого никогда не было проблемой. Но поскольку пагубной склонности к отождествлению человеческой и Божественной природ не наблюдалось и не предполагалось богословием ни сторонников, ни противников образа, то в процессе осознания вопроса, как абсолютно иноприродный человеку, неописуемый и трансцендентный Бог во Христе может быть изобразим по своему человечеству, продолжала крепнуть и осознавать себя иконоборческая тенденция. Ответ, сформулированный в трудах отцов-иконопочитателей, как мы помним, не убедил о. Сергия. Святоотеческое новшество введения понятия Лица в философские категории всерьез не было воспринято ни иконоборцами, ни Булгаковым, и заметим — по причине их общего неразличения между сущностью и Лицом. Вместо того, чтобы сообщить с помощью богословского понятия Лица соответствующую метафизическую перспективу понятию образа, высветить его онтологическую почву, что вначале и собирался предпринять о. Сергий, он предпочел более легкий путь — отказаться от апофатического принципа в познании Бога.
Точкой отсчета для понятия описуемости Божественного Сына в системе Булгакова послужила вовсе не Личность Христа, изобразимая по человеческому образу и неизобразимая в единосущном образе. Первостепенную задачу в подходе к богословию образа Булгаков видит в обосновании онтологической, скажем больше, эстетической описуемости Божества, укорененной в Самом Первоначале. Умозрительным стержнем софиологического учения служит представление о первоначальной Божественной иконе в Самом Боге. Для православной традиции таким совершенным образом Бога Отца был единородный Сын и никаких других образов во Святой Троице св. отцы не предполагали. Булгаков же в этом вопросе, как и во многих остальных, решается внести необходимые, как ему кажется, дополнения и изменения в догматические основы церковного учения, по своему обычаю негласно мотивируя свои "ноуменальные" поступки требованием принципа всеединства.
"От двуединства Образа Божия, в котором открывается Отец в Сыне и во Св. Духе, следует перейти к самой единой образности или к содержанию Образа, для которого Первообразом является Сам Бог, во св. Троице сущий"[18].
Конечно, ни в коей мере о. Сергия нельзя уличить и заподозрить в сознательном противостоянии учению Церкви, которое для него часто не совпадало с богословскими мнениями тех или иных св. Отцов. Самое любопытное и даже парадоксальное, что единосущный образ о. Сергий признает и никак не отвергает, а всего-навсего добавляет еще один — "образ Божества в самом себе", оказавшийся полным недоразумением для богословия образа. Двусмысленность "онтологических" проекций Булгакова связана с тем, что в умозрительном строительстве он неукоснительно следует раз и навсегда выбранному и принятому на веру принципу "генезиса" образа. Образ в подобной интерпретации есть априорно данный сознанию предмет его мысли, равносильный платоновской идее, являясь результатом неправомерного сближения, если не отождествления двух сфер знания: понятийного, логического и невербализуемого идеала красоты, эстетической идеи. Этот метафизический агрегат о. Сергий окрестит мыслеобразом и в согласии с ним не перестанет продвигаться в направлении еще более странного понятия "все-иконы". Очевидно, с целью убедить всех и вся в том, что всеединый образ, включающий полноту всех образов, существующий "для нас", идентичен образу, существующему в Боге, представляя собой двуединую онтологическую скрепу — этакий "замковый камень" в системе о. Сергия.
Читая его текст, мы не раз замечали, что зарождение и последующий ход мысли коренятся более в собственном своеволии, чем в логической необходимости. Как будто логика мысли направлена скорее на развоплощение сознания, вывода его на уровень волящего, чем самосознающего. В особенности это заметно в главе, посвященной тщательному конструированию о. Сергием многочисленного ряда софиологических антиномий.
Исход столь напряженного "конструирования" оказался плачевным и, прежде всего, потому, что укрепил характерную софиологическую тенденцию истолкования единосущного образа. Так же как христологический образ вне понятия Лица теряет признаки своей описуемости и с необходимостью идеализируется, так и единосущный образ без понятия Лица теряет общепринятое в святоотеческом богословии значение быть невидимым образом Отца, ибо с той же степенью необходимости полагается описуемым. Что и подтверждает тут же Булгаков: "… образом Бога невидимого, следовательно, явленном и в этом смысле видимом"[19]. Смысл видимого, как мы уже выше пояснили, объясняется через стяжавший в себя Богочеловечество образ Божества в самом себе — Софию Премудрость Божью, явившийся источником всех образов, распространяющихся в тварном мире.
Весь этот образный схематизм, берущий свое начало якобы во внутритроичном богословии, разительно отличается от понимания реальности, стоящей за единосущным образом в христианской системе координат. Особенность христианской концепции образа, связанная с его новым тринитарным измерением, перевернувшим собой эллинское представление об единосущном образе, заключается в том, что Сын в качестве природного образа Отца есть образ ипостасный, выявляющий единую с Отцом природу в своем Лице. Образ и Первообраз ничем не отличаются друг от друга, все, что есть у Первообраза, есть и у Образа. Можем ли мы сказать, например, что у плотиновского Единого есть все, что есть у его ближайшего образа — Ума-Нуса, а у Нуса есть все, что есть у Единого? Очевидно, что нет, ибо, когда у Нуса будет все, что есть у Единого, он уже перестанет быть Нусом, и наоборот. Христианское понятие единосущного образа как совершенного образа связано не с его различием с Первообразом, но с тем, что этого различия как раз и нет. Различие определено личными особенностями. Ибо Сын единородный не есть образ Первообраза, будучи таковым в силу своего различия с Первообразом по причине некоей онтологической удаленности, как это происходит в неоплатонизме, но Сын — "истинный Бог от истинного Бога", совершенный образ в силу своего ипостасного бытия. Образ абсолютно такой же, во всем схожий до сущностной неразличимости — единосущия, но иной по ипостаси. Образ есть образ не потому, что нисходит по бытию, с необходимостью определяя Первообраз, и вследствие своей бытийной причиненности нуждающийся в "доле божества", но потому, что равночестное, в самом себе созерцаемое Лицо Божие. Нерожденное Лицо-Отец рождает Лицо-Сына образ Отца и изводит Лицо-Духа Святого образ Сына. Сын — образ, потому что Он — Лицо-ипостась.
Очевидно, что смыслы, ставшие для патристического богословия определяющими в обосновании единосущного образа, как самого совершенного образа Бога, остались закрытыми для о. Сергия. В любом другом случае все смутные и, в результате, противоречивые определения статуса Софии в предвечном бытии то ли сущности-усии, то ли ипостаси, то ли образа сущности Троицы, то ли образа Отца, то ли богочеловеческого образа не мучили бы его сознание, а отпали бы само собой, как излишние, бесплодные наваждения.
Ведь если София не есть кто-либо из Лиц, то образ ее связан уже с чем-то иным, с каким-то еще Первообразом. Булгаков остановился на идее образа Троицы в самой себе, давая возможность помыслить, что один Первообраз это Отец, а другой Первообраз это сущность, имеющая образ по своей собственной природе, которая оказывается софийным богочеловечеством. По словам о. Сергия, именно в этом софийном первообразе содержится единственный принцип, заключающий в себе основание всякой иконности — "отношение между триипостасным Богом и Его Образом, Премудростью Божией, которая есть Первообраз мира в самом Божестве, и отношение Первообраза мира к миру, как своему тварному образу". Значит, мы не ошиблись и помимо Сына единосущного образа Отца в Троице для о. Сергия наличествует еще один образ — образ триипостасного Бога, предполагающий, что Бог не только как Лицо имеет в Себе свой Образ, но еще и как Единый имеет свой образ. Если это не Сын и не Дух, то остается сделать вывод об образе общей единой сущности Бога, который одновременно есть первообраз мира в Боге. Итак, этот двуединый образ, по словам Булгакова, есть на библейском языке Хохма, София, "Первоикона всех икон".
"В этом смысле, — пишет о. Сергий, — икона Божества есть живая и животворная Идея всех идей, в их совершенном всеединстве и совершенной всереальности, а потому она есть божественный мир в Боге ранее его сотворения. Иными словами, эта божественная икона Божества, самооткровение Его в Нем самом, есть то, что зовется на языке библейском Хохма, София, Премудрость Божья[20].
Подобное заявление можно понять только в одном смысле: Бог открыт с той же степенью откровенности не только Сыну Единородному но и сотворенному Им из праха миру. Но поскольку мира еще нет, как сотворенного, то, как Бог может открывать себя несуществующему никому? Только как пребывающему вечно! Похоже, что, согласно о. Сергию, Бог, открывая себя в Сыне, открывается и миру и одно без другого невозможно. Ведь что есть выражение "божественный мир в Боге"? С подачи о. Сергия образ мира неотличим или тождественен с Его самооткровением внутри собственного бытия, причем по мысли Булгакова этот образ-икона не просто икона Отца, но именно "икона Божества в самом себе".
Представление об образах мира, пребывающих в Боге ранее его сотворения, близко к понятию того, что св. отцы называли парадигмами творения или божественными произволениями о мире. Но если мы примем это положение в булгаковском смысле, то опять же вровень ставится мысль Бога о творении и Божественный ипостасный образ Отца. Единственная возможность понять булгаковское выражение об иконе в самом Божестве, которая тождественна с образом твари, заключается в признании того, что в мысли о мире Бог видит Своего Сына, либо в том, что в рождении Сына Отец созерцает мир. Только так и можно понять булгаковское выражение об иконе в самом Божестве, тождественной с образом твари! При том о. Сергия нисколько не смутило получившееся при этой операции одинаково "равночестное" достоинство образа Отца в Сыне и образа мира в Боге, поставившее на один онтологический уровень предвечно существующий Образ Отца в Сыне и образ еще не существующего мира. Кроме того, мысль Бога о творении настолько онтологизируется, что обесценивается само творение. И тогда при всем нашем желании дистанцироваться от эллинистической ошибки почитать материю за зло, а телесный видимый образ — за отблеск идеального, идея творения будет неотличима от отпадения от Божественного совершенства. Однако мысль все же не найдет в таком понятии творения никакой опоры для утверждения, что оно "добро зело". (Быт.1.) Для реабилитации творения, т.е. облеченного материей бытия, и для установления изначального тождества двух образов, о. Сергию придется впасть в другую крайность — ввести телесность как основание образности в бытие св. Троицы, что также не спасает ситуацию, ибо сущность творения сольется с божественной идеей.
Отойдя слишком далеко от христологического образа, а вместе с ним и единосущного образа, мы оказались один на один с софийным образом, неотличимым от парадигмы мира. Таким образом, поиск основания иконы привел нас к божественным мыслям о творении, к откровению, доступному уже язычнику, к естественной описуемости всех Божественных проявлений в творении. Исходя из чего о. Сергий делает вывод о том, что тварь сама по себе это и есть образ Божий. Это же самое содержание — икона Божества в самом себе — одновременно является Первообразом по отношению к тварному миру, "который сотворен Премудростью, т.е. на основании и согласно Премудрости, и в этом смысле сам мир является тварной иконой Божества"[21].
Когда преп. Максим писал, что тварные существа "суть образы и подобия Божественных идей"??[22], то вряд ли он полагал, что эти тварные образы Божественных идей и составляют тот первообразный организм, в котором находит свое начало и христологический образ. Быть образом Божественной идеи и быть образом Отца - это не одно и то же. Но мы начали с того, что определили икону как искусственный образ Христа, Который в свою очередь является образом невидимого Бога. Образом — потому, что Сам есть Бог. Потому, наверное, следует ввести различение этих двух видов образов: образа Бога в твари и христологического образа как несводимых друг к другу явлений Бога в созданном Им мире — явления Сына Божия и явления Его зиждительной творческой силы, содержащей в себе начала вещей. Однако меньше всего следует думать, что начала эти и являются сущностью вещей. Божественный образ в вещах "скорее можно назвать истиной вещей, ея трансцендентной энтелехией. Но истина вещи и ее сущность совсем не совпадают"[23], — писал о. Г. Флоровский. Так же как мы различаем божественные изволения и предопределения о вещах, "слова" и Слово Отца ??так же и должны различать прообразы творения и? Божественный образ в Сыне. Смысл тварных образов вещей, наверное, в том, чтобы выражать, согласно их природному предназначению, самих себя в парадигме, указанной для них Господом. В этой законосообразности заключен космологический аспект образа. Закон есть выражение установленной Богом парадигмы, потому мы можем сказать, что естественный закон, в котором существует природа, и есть свидетельство о едином Творце. "Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы" (Рим. 1, 20). Бог в таком тварном образе проявляется законом о вещи. Тварный образ человека уже иной, ибо здесь речь идет о тварном лице, природе воипостазированной. И иначе будет складываться христологический образ Божественного несотворенного Лица в человеческой природе, которому подражает или уподобляется уже живописный образ-икона.
Булгаковым эти вещи на удивление не различаются, более того, образ Божий в творении и образ Бога в самом Себе отождествляются в двуединый предвечный образ. Поддержку своим догадкам о. Сергий видит в часто им цитируемом выражении ап. Павла, предваряющего проповедь о Сыне Божием: "Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы" (Рим. 1, 20). Но проповедовать Господа, Пришедшего во плоти, однако никоим образом не соотносящегося со своим творением, было бы и неправильно и неверно по существу, поскольку творение в отпущенной ему Богом мере свидетельствует о своем Невидимом Творце. Но сопоставима ли мера проявлений Бога, доступных в своем познании уже язычникам, с Его полнотой, явленной в Лице Христа? Являемое в твари Божество не есть Его ипостасное явление, но именно сила Его установления мира, ибо невидимое Бога в вещах мира есть истина мира, указывающая на его далеко не призрачное бытие, и "не в мысли только людей, а на самом деле, в действительности сущее Его Божество"[24].
Но это видимое в творении невидимое Бога, еще не дает повода изображать Бога в образах тварного. Ветхозаветный запрет на изображение своим жестким педагогическим актом сохранил перспективу истинной иконы — Христологического образа. "Видимое невидимого Бога" вызвало к жизни языческий религиозный символизм и, в том числе, легший в основание европейской культурной традиции античный символизм. Однако этот же самый символизм, преломленный, но до конца не воцерковленный в богословии платонизирующих христианских богословов, дал самых непримиримых противников икон в истории Церкви. Этот факт еще раз убеждает в том, что доступное уже язычникам положительное откровение в твари, заложившее основы религиозного символизма, не содержит в самом себе неоспоримых внутренних логических данных для восприятия истинного образа. Потому апостолы и пошли по свету вразумлять и наставлять людской род, и, в особенности, просвещенных эллинской мудростью язычников, что недостаточно было этой мудрости для познания и прославления истинного Бога. Тем более, как продолжает дальше апостол: "…познавши Бога, не прославили Его, как Бога, … называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся" (Рим. 1, 23-24).
Во всех смыслах было бы неразумно ограничиться приведенным выше выражением апостола и воспринять его, как то сделал о. Сергий, в качестве общего основания, как и для тварных образов вещей мира сего, так и для нетварного невидимого образа Отца в Сыне. В конце концов, не в этом состоит цель и сущность проповеди ап. Павла: зачем апостолу брать на себя нелегкую миссию избранного к Благовестию, если все, что он собирался сказать, было уже известно просвещенному язычнику? Благая весть, как, впрочем, и любая весть, становится излишней, когда не сообщает ничего сверх того, что уже было сказано. Без сомнения кульминацией Евангелия, как и его целевой вершиной, с высоты которой разворачивается перспектива христианского понятия образа, заключается в других словах апостола, там где Павел благовествует о Христе, "в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, — все Им и для Него создано" (Кол. 1, 14-16).
Этой перспективы в труде о. Сергия мы при всем своем желании не обнаружим. Ее основательно перекрыла София: будучи сама по своей природе неизвестно чем, она, смешав в себе до неузнаваемости в своей взаимообратимости образы твари и образы Бога, населила этими чудными "мыслеобразами" мироздание снизу и доверху и призвала к ответственности перед собой самого Бога Отца.
Икона, открывающая собой реальность, принадлежащую исключительно личности, сводится к принципу изображения всего тварного в космосе, где любой предмет в равной мере с человеком способен являть в себе Божественное, где человек, конечно, в своей единичности, индивидуальности всегда будет рассматриваться как часть мирового целого. Впрочем, как мы успели понять, эта же участь ждет и Самого Господа Христа. С другой стороны, конечная цель софиологии приводит к изобразимости Отца, поскольку раз икона есть образ Сына, который есть образ Отца, то выходит, что икона есть образ Отца. Отсюда вывод: ни во Христе нет Божественной личности, ни в человеке нет личности, но только лишь вариация на тему Софии.
Удивительно, что в построении как казалось Булгакову метафизической теории иконы о. Сергий не воспользовался важнейшим достижением восточнохристианского богословия. Имеется в виду тройное различение в Боге лица, сущности и энергии, а затем и в человеке, созданном по Его образу и подобию. Именно оно, как справедливо отмечает митрополит Амфилохий (Радович), делает святоотеческое богословие и вытекающую из него гносеологию в корне иными в своих вопросах и решениях не только по сравнению с античной теологией, но во многом и по сравнению и с западными, такими, какими они развивались с времен блаженного Августина и до сего дня. Этот пробел в западной мысли, начиная с Николая Кузанского[25], Якоба Беме[26] и Шеллинга[27], позволивший ей отдаться целиком и полностью образу Софии, во многом определил путь религиозной спекуляции, отдаливший ее на весьма внушительное расстояние от халкидонского догмата.
В результате мы имеем такой символизм, в рамках которого образ рассматривается как частный случай космологического откровения, что и проиллюстрировал собой догматический очерк о. Сергия. Но зададимся вопросом, где же все-таки исток, та дрожжевая бацилла, на которой вскипела аппетитная софиологическая каша, готовая покрыть всю землю, подобно чудесному вареву вечнодействующего горшка братьев Гримм, хоть и приправленная христианскими образами и смыслами, но приготовленная по своей особой рецептуре? Ответ, как ни странно мы найдем в книге еще одного мощного адепта софиологической концепции, нашего современника немецкого священика Томаса Шипфлингера "София-Мария", большого поклонника русской софиологии. Разбирая трактовку св. Афанасия Великого[28] искусительных для Ария[29] мест в книге Притчей, он пишет следующую весьма любопытную вещь: "В 68 главе Афанасий говорит, что Иисус Христос не смог бы спасти и обожить нас не будь Он Сам Богом. Эта его идея обожения человека вообще является ведущим мотивом для постулирования богосыновства Христа. Это становится ясным с первого взгляда. Однако стоит спросить, какого рода обожение подразумевает Афанасий? Имеет ли он в виду сущностное, субстанциальное или благодатное – от милости и благодати Бога посланное обожение? Такое обретенное через Христа обожение может быть только благодатным, а никак не субстанциальным. Или Афанасий имеет в виду субстанциальное обожение? Тогда благодатное обожение, дарованное по милости и благодати Отца через достоинство Христа, совсем не обязательно должно предполагать божественность Христа"[30].
Но если Сын не Бог, то и Троица не Троица в ортодоксальном понимании, а потому, конечно, все богословское основание иконы расплывается и перекашивается. И, конечно, последняя и единственная надежда возлагается на Софию, от века скрепляющей Бога и тварь в нерушимом единстве. Так вот какой ценой вошел в европейское сознание миф о Софии! Ценой отказа от Божественности Сына. Отсюда с неизбежностью вытекает тот самый подлежащий нашему пристальному рассмотрению в настоящей статье вывод об образе Божьем. Истинный и совершенный образ Бога не обязан быть Богом по природе, вполне достаточно для отображения Бога Отца творение, причем творение идеальное, существующее от века. Если Сын не всемогущ и не Господь, но совершенная тварь, то и не обойтись ему без посредника, без условия для своего воплощения, без условия для своего видимого образа, которым и является согласно общему единодушию старых и новых софиологов, - Душа мира, духовная телесность, вечная женственность или же, говоря одним словом, – София.
[1] Соловьев В.С. Собр. Соч. СПб., 1966. Т. II. С. 350.
[2] Прот. Сергий Булгаков. Икона и Иконопочитание. Париж, 1931. С. 40.
[3] Лосев А.Ф. Имя. Сочинения и переводы. СПб., 1997 /Имяславие/, с. 10.
[4] Митр. Антоний (Мельников) Из истории Новгородской иконографии. Богословские труды. 27. С.112.
[5] Аверинцев C.С. София —Логос. Словарь. Киев. Изд. Дух и литера. 2001. С. 12.
[6] Прот. Сергий Булгаков Письма к Юлии Николаевне Рейтлингер. //Вестник Р.Х.Д. №182. 2001. С.70.
[7] Подлинное кафолическое определение о соединении двух природ во Христе состоялось в 451 году в Халкидоне на 4-ом Вселенском Соборе . Наиболее существенное содержание Халкидонского постановления выражено Собором в следующих словах: "Итак, следуя св. отцам, мы все согласно учим исповедывать Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа; Того же Самого совершенным по божеству и Того же Самого по человечеству; Того же Самого воистину Богом и воистину человеком, из разумной души и тела, Единосущным Отцу по Божеству и Того же Самого, Единосущным нам по человечеству, во всем нам подобным, кроме греха…Едиого и Того же Христа, Сына, Господа, Единородного ? познаваемым в двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо и неразлучно…". (Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: VI Собор. VII Собор. СПб., 1996 (репринт с издания: Казань, 1908).
[8] Аполлинарий Лаодикийский – еп. (ок. 310-ок.390), богослов, экзегет, предшественник монофизитства. Учил о воплощении Логоса непосредственно в человеческую плоть, понимая ее как лишенную разумной души. Другими словами, заключал о том, что человеческий разум Христа был замещен Разумом Божественным.
[9] Несторий (ум. ок. 451), архиепископ Константинопольский не признавал соединения в Личности Христа природы Божественной и природы человеческой и потому отрицал Богоматеринство Девы Марии и называл Ее Матерью человека Иисуса или "Христородицей". Ефесский Собор 431 г. осудил Нестория и провозгласил Деву Марию Богородицей.
[10] Монофизиты учили о единой Божественной природе Христа.
[11] Зеньковский Василий свящ. Судьба Халкидонских определений. //Православная мысль. Труды Православного Богословского Института в Париже. С. 51.
[12] Там же. С.54.
[13] Архиеп. Серафим (Соболев). Новое Учение о Софии Премудрости Божией. София. 1935. С. 198.
[14] Роднянская И.Б. Сергей Николаевич Булгаков — отец Сергий: стиль мысли и формы мысли. //Вестник Р.Х.Д. №182. 2001. С. 30.
[15] Лосский В.Н. Спор о Софии. Париж. 1936. С. 54.
[16] Булгаков С.Н. Указ. Соч. С. 95.
[17] Творения св. отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. 1904. Ч. II. С. 69.
[18] Булгаков С.Н. Указ. Соч. С. 80.
[19] Булгаков С.Н. Указ. Соч. С.77.
[20] Булгаков С.Н. Указ. Соч. С. 81.
[21] Там же. С. 81.
[22] S. Maximi Conf. In lib. de div. nom. schol., in V. 5, PG IV, 352. См. работу о. Г. Флоровского "Тварь и тварность" в //Православная Мысль. Труды Православного Богословского Института в Париже. Выпуск №1. 1928. С. 193.
[23] Флоровский Г. В. Тварь и Тварность. С. 195.
[24] Там же.
[25] Николай Кузанский (1401-1464) – кардинал, богослов, один из самых ярких представителей Возрождения, предтеча европейского гуманизма и пантеизма.
[26] Якоб Беме (1575-1624) – немецкий религиозный мыслитель, мистик и в целом теософ, близкий в своих идеях каббалистическим доктринам, построениям Экхарта, Николая Кузанского, Парацельса.
[27] Шеллинг Фридрих Вильгельм Иозеф (1775-1854) – немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма и предтеча романтизма.
[28] Св. Афанасий Великий (295-373) – еп. Александрийский, великий богослов Никейского Символа веры. Положил начало собственно православному понятию трансцендентности Бога, включающей в себя Божественность Сына и Духа. Ему принадлежит честь первых слов о Сыне единосущном Отцу. Сын – "истинный Бог от истинного Бога", а также "совершеннейший плод Отца, единственный Сын и неизменное отображение Отца". (см. замечательную книгу Кристофа фон Шенборна "Икона Христа. Богослвоские основы").
[29] Арий, пресвитер (ок. 260-336) утверждал, что Иисус Христос - второе Лицо Троицы - не единосущен Богу Отцу, что было время, когда не было Сына, и что только Бог (Отец) безначален, и, следовательно, Христос был тварным человеком и не совечен Богу.
[30] Шипфлингер Томас София-Мария. Целостный образ творения. Гнозис Пресс – Скарабей. 1997. С. 63.
Ярославля
Переславля
Борисоглебского
Ростова Альманах