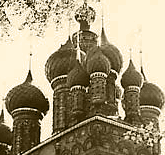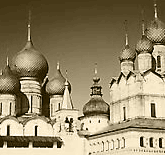Углича
Владимира
Александрова
Мурома
Новости
Имена в Книге Жизни
Образы действительности, картина мира, взаимоотношения вещей — все это мы находим в родном языке. Только изучая родной язык, человек постигает некие первоосновы представлений, открывает законы мышления, которые действуют в нем помимо него самого, вне зависимости, осознает он это или нет.
Сугубо «православной» светской литературы, в общем, нет и никогда не было. Не напрасно в советские времена читали и изучали Лескова, Шмелева — да в произведениях любого русского писателя сильны православные мотивы, наряду с народными. Перелистать Лермонтова — даже Печорин, о котором на уроках литературы миллион раз было сказано, что он без пяти минут нигилист, и тот, входя в избу, невольно ищет глазами образ. И у богоборца Льва Николаевича Толстого есть глубоко религиозная притча «Отец Сергий», о которой, как о всяком глубоком художественном произведении, возможны разные мысли, в том числе и те, будто рассказ «обличает», «разоблачает» и «ниспровергает».
В настоящее время, надо полагать, национальное самосознание укрепляется. Уже не такой крамолой слышатся заявления, связанные с национальной самоидентификацией, и, по всевозможным опросам и статистикам, при всей их условности, огромное количество людей отождествляет себя именно с Православием, несмотря на то, что многие могут и не иметь достаточно четкого представления о элементарных основа вероучения. Но это уже другой вопрос.
Поэтому вполне естественно, что появляются «специфически православные», а также проникнутые православным духом, без кавычек, книги, а известные классические произведения прочитываются многими по-новому.
Вальтасаровы письменаКнига Олеси Николаевой «Мене, текел, фарес» — давно уже не новинка. Изданная в 2003 году издательством «Эксмо» почему-то без странички содержания, она была и замечена, и прочитана. И даже составила предмет некоторой полемики, поскольку вся посвящена нашему современному духовенству, людям, которым, как сказано в анотации, писатели уделяют довольно малое внимание. Как и всякая книга, в той или иной мере основанная на реальных событиях и вообще укорененная в реальности, она вызвала целую бурю гаданий, кто есть кто, и кто кому послужил прототипом. Подобного рода дознания — занятие неблагодарное: как бы то ни было, художественное произведение всегда так претворяет, пересотворяет действительность, что нелепо искать в нем некие свидетельские показания. Автор распоряжается действительностью, как хочет — что считает нужным, берет у жизни, где полагает удобным — домысливает, дописывает. И не всегда это дело сознательного решения автора, еще Николай Рубцов заметил — «О чем писать, на то не наша воля».
Книгу составляют вещи: повесть «Инвалид детства», роман «Мене, текел, фарес», и три рассказа, объединенные в раздел, почему-то по-английски, «Non-fiсtion» — непридуманное, стало быть.
Олеся Николаева известна как поэт. Но ее проза — это не «проза поэта», весьма специфическое явление, от которого во время оно дистанцировался, например, Василий Субботин в «Романе от первого лица». Это проза прозаика, впрочем, стихи ее оттого не перестают быть стихами поэта. Такое вот редкое равновесное сочетание.
Ключевое произведение книги — конечно, роман «Мене, текел, фарес». Одной радиожурналистке это название показалось считалочкой. Но на самом деле оно восходит в библейским событиям: во время пира вавилонского царя Вальтасара появилась рука, которая вывела на стене таинственные письмена. Никто из царских слуг не мог уразуметь смысл этих слов, но позванный пророк Даниил истолковал написанное — три слова предвещали скорую гибель Вавилонского царства. Ничего особенного «предвещательного», оправдывающего столь грозную заявку, в романе нет. Повествование исполнено самого человеколюбивого юмора, монахи и иерархи, многие из которых дороги сердцу автора, предстают, как обычные люди, со своими страстями и бедами, да и как иначе — они ведь те же, что и другие, и, хоть Господня печать отмечает их, другие силы осложняют их жизнь такими искушениями, о которых светский человек и не подозревает. «Человеческое, слишком человеческое» видит в героях и сам автор, который сокрушается в том духе, что читатель может подумать, совсем по Тургеневу: «Если сливки таковы, каково же молоко?» Но в этом видении — и залог честности.
Безусловно, такого отстраненного взгляда, каким обладал Лесков, Олесе Николаевой, которую неизбежно сравнивают и будут сравнивать с этим классиком, не удалось добиться при описании героев. Лесков ведь тоже с любовью относится равно и к отцу Туберозову, и к учителю Варнавке Препотенскому, выварившему утопленника с целью получить кости для «изучения человека» (в «Соборянах») — однако самого повествователя в ткани текста там почти нет, хотя иногда он напрямую обращается к читателю: прокрадемся, мол, к Туберозову, да наденем легчайшие сандалии и шапку-невидимку, чтобы не смущать батюшку. В романе «Мене, текел, фарес» повествователя много, очень много. Ни на минуту не удается забыть, что окружающее мы видим глазами героини, от лица которой излагаются события и следуют описания. В этом различие творческих методов, конечно — кому что ближе, но все-таки шапка-невидимка входит в непременное обмундирование писателя, который ведет за собой читателя. Все равно ведь, на что ни падает взгляд автора, видится сначала ему, а потом уж читателю. В традиции отечественной литературы, начиная от Чехова и продолжая Шукшиным, повествователь — лицо не слишком значительное, его словно бы и нет. Конечно, есть и другое направление, другой способ, но частенько все равно фигура «лирического героя» застит непосредственно происходящие события, мешает отдаться им целиком, вовлечься в них, погрузиться вполне.
Другой предмет разговора — язык. Конечно, достичь подлинной густоты не так просто, в особенности сейчас и в столице, когда люди сплошь изъясняются обезличенным, обезжиренным, выхолощенным языком, каким говорят и с экрана телевизора, и по радио, и в быту. Возможно, причины лексической, синтаксической, и наконец, как следствие, семантической плоскости языковых средств выражения в произведениях современной литературы именно в общей омертвелости языковой среды. В этом смысле Олеся Николаева, как человек, заметно обращенный к принципиально другой языковой вселенной, к вселенной смыслов священных книг, церковного богослужения, классической литературы — во многом возвышается над общим уровнем быта современной прозы, не теряя при этом живости и непосредственности изложения, вполне в духе настоящего времени, но опять-таки — «не досягает» Лескова. Лишь редкие фрагменты видятся вполне плотной, густой, тугой прозой, но и они как будто просят большего разнообразия, большей яркости. Это мое читательское впечатление.
Но что вполне удается Олесе Николаевой — так это характеры героев. Все они, друг от друга отличные, со своими порой вздорными, порой смешными, порой трогательными обвычками и чертами, встают перед нами и проходят, как галерея портретов, и надолго запоминаются — и дьякон Дионисий, и сам отец Ерм, изограф, и Петр Лаврищев, и все другие-остальные, менее значительные, но не менее рельефные.
Мне вот было жалко, что страничка перевернулась — и роман закончился. Я готова была читать его еще и дальше, и, может быть, там было, куда дальше писать. Немного смущает заключительная сцена, когда героиня вывозит отца Ерма «в поля» и он выскакивает из машины и направляется пешком обратно в скит, а из магнитолы льется Моцарт — ну что это? Зачем такие романические аккорды? А впрочем, не знаю. Олесе Николаевой, как мне кажется, читатель готов все простить и все принять, всему поверить за ее неподражаемую непосредственность, живость, какую-то сугубую подлинность и изящество, от которого веет мало того, что настоящим, так еще и высоким. И самоиронии ей, кстати сказать, хватает — чего ну никак нельзя сказать о многих и многих авторах.
Прочие вещи книги, каждая из которых, конечно, обладает целым рядом своих неоспоримых достоинств, смотрятся не более чем обрамлением к роману, хотя, вполне возможно, другому писателю они составили бы отдельный самодовлеющий капитал.
Наш ответ ТолкиенуСамое грустное в современной литературной ситуации, пожалуй — что нет авторов и, как следствие, книг, предназначенных для детей. Никаких почти нет. Ни «православных», ни «неправославных». Нет, конечно, попытки предпринимаются. Вот Николай Блохин, прямо так себя и позиционирует — «православный писатель». Он даже за православную веру, как сказано в биографии, пострадал — первую книгу «Бабушкины стекла», как раз для детей, написал в Лефортово. Безмерно жаль, но страдания за веру никак не соотносятся с мерой отпущенного автору литературного дара. Одно название чего стоит. Что за «бабушкины стекла»? Окна? Очки? Оказывается, и впрямь — очки, и еще зеркало. После смерти бабушки стали показывать подлинный облик обезображенных грехом людей. И, как бабушка была праведницей, так и внучка Катя — этакая новая святая, родителям своим не послушествует, а напротив, обличает их во всяческих грехах, много резонирует и в утомительных диалогах разъясняет некоторые вопросы веры, которыми, как предполагается, таким образом дети будут заинтересованы. Дети — самая благодатная, и самая беззащитная аудитория. Однако при этом еще — взыскательная, требовательная к писателю. И если ребенку попадется несколько книг подряд, таких, как повесть Блохина, которая дышит чистотой намерений и вопит об отсутствии таланта, вряд ли он сохранит и дальше доверие к книге, как к таковой. Николай Блохин пишет и для взрослых (например, книга «Глубь-трясина» — опять все видно по одному названию), ну да взрослых не жалко, пусть пишет человек, если хочет.
Анна Гальперина подробно разобрала данный и другие образчики того же жанра в статье «О православных ежиках и детской литературе», отмечая абсурд сложившейся ситуации: «Особым атрибутом православной книжки становится Таинство Причастия. Оно должно либо упоминаться в книге, либо присутствовать в ней, то есть, главный герой должен обязательно причаститься. Приходилось даже слышать мнение о том, что мол, православной литературой может считаться только та, в которой герои причащаются. Таким образом, из числа православных, а следовательно, достойных внимания, авторов автоматически выпадают Достоевский, Чехов, Пушкин, Толстой, Лесков, Гаршин, Лермонтов, Островский, Шукшин, Распутин, Бондарев, В. Быков и другие. Ведь их герои живут без Причастия! И уже не волнует таких читателей, что герои этих произведений всю жизнь свою решают проблему добра и зла, соотносят свое бытие именно с высшими христианскими образцами добродетели, страдают, переживают, рождаются в вере, в поступке, в подвиге».
С одной стороны, стремление всячески согласить собственные писания с принципами вероучения играет с «православными» писателями злую шутку, с другой — силен соблазн противоположного рода: фентезийный, сказочный. Юлия Вознесенская написала целый ряд книг: «Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры, или Приключения с макаронами», «Паломничество Ланселота» — все изданы, в твердом переплете, держатся в хорошем рейтинге электронного книжного магазина «Озон». Сразу скажу: я только первую вполне осилила. Повествование не лишено известной занимательности. Героиня после нечаянной смерти скитается по мирам, предводительствуемая зримым (до полпути) ангелом-хранителем. Совершенно дантовский сюжет, на чем, разумеется, сходство с Данте и заканчивается. Особенно комичен образ сатаны, который, конечно же, сперва очень красив, но не какой-нибудь там красотой, а прямым текстом «театральной» или даже «опереточной», насколько мне помнится. В целом, Юлия Вознесенская владеет принципами построения сюжета, и, кстати, книгу свою писала по особому благословению. Но — язык. О языке нечего и говорить. «...Впереди осталось последнее мытарство — немилосердия. Я решила про себя, что мы его проскочим, но вслух ничего не сказала. И правильно сделала. Никогда я не прошла мимо нищего, не подав ему хотя бы монетки, друзьям всегда была готова помочь в беде, любую вещь легко отдавала, если в ней кто-то нуждался...» Прямо газета, а не книга. В жанре туристического проспекта описывается чудесный город, который на самом деле оказывается свалкой, в духе психологических популярных брошюрок — отношения между людьми. Главная душевная коллизия надумана — муж героини врал ей, что изменяет, а на самом деле у него был ребенок, в то время, как она была бездетной. Насколько это менее глубоко, если снова обратиться к Лескову, как подлинному, чистому звуку, по которому сверяешь ощущения от самодеятельной музыки. У Лескова в тех же «Соборянах» жена протопопа Туберозова, Наталья Николаевна, бездетная, хочет дознаться, не был ли муж «когда-нибудь, прежде чем нашел меня, против целомудренной заповеди грешен», чем больше он ее уверяет, что не был грешен, тем печальнее она становится, и так его умоляет: «Вспомни, голубь мой: может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и если есть, пойдем и возьмем его!»
«Мало что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка! Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарядал тем рыданием, которому нет на свете описания».
Конечно, скажут, что сравнивать. Есть разные жанры и виды литературы, сегодня уже никто не просит от развлекательного чтения глубины, сами требования такого рода — смешны. Но русская литература и русский язык, так уж сложилось, имеют такую историю и такую глубину, так много сказано значительного и серьезного по-русски, что человек, дерзающий писать, вольно или невольно включается в контекст другого порядка, бывает, гораздо шире того, который он себе мыслит. В особенности, если хочет он погружаться в православную и вообще христианскую тематику. С другой стороны, и Юлия Вознесенская, и Николай Блохин, и другие наши «православные писатели» делают то, что они только и могут делать, будучи на своем месте. И, возможно, через их наивные, сентиментальные, надуманные книги кто-то тоже приходит к более твердым основаниям бытия, начинает интересоваться трудами отцов церкви, философов, богословов.
Олеся Николаева в «Воспоминании о митрополите Антонии (Блуме)» рассказывает, как она посетовала владыке, что не знает, права ли, поддаваясь вдохновению. И митрополит Антоний ответил ей на это: «Вспомните, в Евангелии есть притча о злаках и плевелах. Человек посеял на поле доброе семя, но пришел враг и насадил между пшеницей плевелы. Когда же рабы предложили господину выдергать плевелы, что он ответил им? Он ответил им: "Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы". Вот и вы в тот момент, когда начинаете искусственно ломать то, что пишете, как вы говорите, дивясь и блаженствуя, и на этом месте водружать нечто общезначимое и общеизвестное, портите свою пшеницу, свое, быть может, доброе семя. Оставляйте все, как есть, пусть даже с плевелами, и уже не ваше дело судить это».
Другой автор, знакомый нам, сказал о том же самом так: «Вы пишите, вам зачтется, я потом, что непонятно, объясню». Можно вспомнить и великого поэта: «Нам не дано предугадать…»
Дождемся ли мы объяснения своим «писаниям», увидим ли, «как отзовется» — никогда не известно. Задача, по-видимому — сверяясь с голосом совести, продолжать делать то, что делаешь, в полную меру своего, пусть небольшого, дара.
Ярославля
Переславля
Борисоглебского
Ростова Альманах